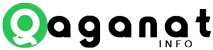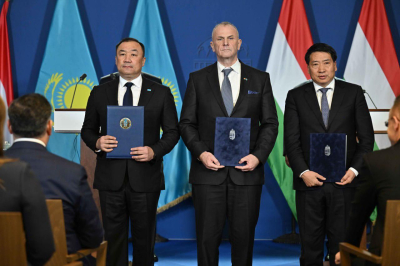Между тем, эксперт не имеет права отвечать на вопросы правового характера, сказала golos-naroda.kz известный в Центральной Азии религиовед, учредитель Центра религиоведческих исследований Индира Асланова (Кыргызстан).
Большая ошибка
«Я вижу грандиозную методологическую проблему и в Кыргызстане и в Казахстане.
Судебный эксперт не может давать определение правовым понятиям, в нашем случае – экстремизму. Что такое экстремизм или что подразумевается под экстремистской деятельностью, расшифровывается в самом профильном законе. А если эксперт использует толковые словари, то может быть миллион толкований, интерпретаций данных понятий. Использовать их и говорить: «Да, это экстремистский материал или экстремистская деятельность», — большая ошибка», — акцентирует Асланова.
Эксперт говорит о наличии/отсутствии признаков экстремизма в тексте, а потом только суд определяет, является ли материал экстремистским, объясняет собеседница.
«Если эксперт сидит и определяет, что это экстремизм, встает вопрос — зачем нужен судья. Эксперт не имеет права отвечать на правовые вопросы. В Кыргызстане и Казахстане, судя по тому, что я слышала от коллег, эксперты берут на себя обязанности, которые для них не характерны», — говорит религиовед.
Кроме того, она отмечает проблему катастрофической нехватки квалифицированных кадров.
«Я все ещё вижу, что эксперты, например, лингвист отвечает на вопросы, относящиеся по компетенциям к религиоведу. Или наоборот”, – констатирует специалист.
Секта – не научное понятие
Кыргызстан уже пришел к пониманию необходимости проведения комплексной экспертизы, то есть экспертизы с участием разных специалистов: лингвиста, психолога, если текст имеет религиозный характер – религиоведа.
«Они вместе работают над текстом. В этом случае меньше возможностей для субъективных решений», — продолжает Индира Асланова и добавляет, что случаи проведения «комплексной религиоведческой и лингвистической» экспертизы одним специалистом все ещё фиксируются.
При этом в сравнении с другими странами Центральной Азии Кыргызстан ушел вперед именно в части разграничении задач экспертизы и методологии её проведения.
«К пониманию этого наша страна пришла методом проб и ошибок, под сильным давлением общественных организаций, когда в суды массово начали поступать дела с постоянной ссылкой на религиоведческие экспертизы и Фемида начала принимать очень спорные решения. К вопросу подключились исследовательские институты, со стороны государства также был запрос, в чем дело.
«В Казахстане же я наблюдаю, как легко и просто используют термины «деструктивные организации», «секты». Это абсолютно не научные понятия. В религиоведении мы их избегаем, поскольку они аксиологически окрашены и субъективны.
Как-то я была у вас на конференции и спросила коллег, что они подразумевают под деструктивными организациями. Мне начали перечислять запрещенные экстремистские организации. Называйте их тогда запрещенные экстремистские организации, а не деструктивные, иначе это выглядит как некая уловка. Выглядит это так: «Вроде бы подразумеваются эти структуры, но ещё есть широкий спектр организаций, которые мы под запрещенные подвести не можем, но которые нам не нравятся и которые мы хотим назвать деструктивными», — делится эксперт.
Асланова подчеркивает: «деструктивный культ», «тоталитарные секты» и другие подобные понятия — это не научные термины и не используются в правовых документах
«В Кыргызстане данные термины практически вытеснены из официального пространства. Хотя вначале был довольно распространен, в том числе под влиянием антикультистского движения России, в информационном пространстве которой мы все находимся», — рассказывает религиовед.
Собеседница отмечает, что именно детальное изучение практики Казахстана, а также России позволило Кыргызстану выстроить методологию работы в части религиоведческой экспертизы.
«Поэтому мне бы не хотелось, чтобы сказанное мной выглядело как критика», — заметила эксперт.

Из крайности в крайность
По мнению Индиры Аслановой, религиоведческую экспертизу в идеале вообще следует отменить.
«Если имеет место неправомерная деятельность, это часто очевидно. А экспертиза проводится по конкретному материалу, у экспертов нет всех материалов, обстоятельств дела в комплексе — ими обладают следователи и судьи.
А эксперт говорит – вот этот текст об этом. Что человек с этим текстом делал, для чего использовал, что с этим текстом дальше делалось, какие у него были намерения – эти вопросы не входят в задачи экспертизы. Может, текст у него в уборной лежал… Сам по себе текст не является показателем какой-либо деятельности», — отмечает специалист.
Асланова напомнила, сложности разграничения различных понятий, например, «экстремизм» происходит от слова «крайний», «чрезмерный».
«В этом смысле он совпадает с радикализмом, и грань между ними очень расплывчатая. И я понимаю идею ООН, когда через свои структуры организация в различных резолюциях ООН подчеркивала именно насильственный экстремизм:
Человек может иметь крайнее видение жизни, преобразований и т.д., но если это видение не сопровождено насилием или призывом к применению насилию, это не является преступлением. Тогда в эту структуру встает и радикализм, который рассматривается не как данность, а как процесс радикализации из точки А в точку Б.
Такой подход позволяет увидеть промежуточные стадии, когда ты можешь интервенцию проводить. Это даёт мне больше ясности, чёткости как эксперту. А у нас долгое время экстремизм рассматривался только как религиозное явление», – отмечает эксперт.
Точка радикализации
Асланова рассказывает, что в тюрьмах встречала тех, кто оказался здесь именно после заключения эксперта-религиоведа.
«Для меня это проблема, которую я никак не могу донести до экспертов, — понимание ответственности за свою работу.
Если ты сажаешь невиновного, встает вопрос о том, что в тюрьме он реально радикализируется, не будет доверять государству, государственным институтам. Внутри будет расти чувство протеста и человек станет удобной мишенью для последующей радикализации. Это ключевой момент — недобросовестное отношение эксперта к работе», — говорит собеседница.
Другой момент — когда госорганы начинают массово закидывать судебно-экспертные службы запросами.
«Религиоведческая экспертиза — это исследование, требующее времени. Ты не можешь сидеть и просто печатать текст. Фактор времени, естественно, сказывается и на качестве. Тогда мы приходим к другому вопросу – всегда ли нужна экспертиза?
Когда к примеру, дело касается вопросов, которые не требуют специальных знаний, или имеются другие материалы, которые подтверждают противоправную деятельность», — разъясняет эксперт.
В целом, резюмируя, собеседница отмечает, что необходимо создание независимых конкурентоспособных экспертных служб.
«У нас в этом плане идёт монополизация одного госоргана — ГСЭС (государственная судебно-экспертная служба при правительстве Кыргызской Республики) может проводить анализ материалов на признаки экстремизма. В Казахстане, насколько я знаю, была возможность независимым экспертам получить статус судебного эксперта», — говорит Асланова.
По её словам, сложно поменять многолетнюю сложившуюся практику, когда госорганы по наработанному механизму назначают экспертизы.
«Мы работаем с судьями, адвокатами, прокурорами, доносим информацию о том, что практика меняется. Но нужно время, которого не хватает. Поэтому нам нужны независимые экспертные организации.
Должна меняться сама судейская практика, и если не будет спроса на эту экспертизу, нам не нужно будет столько экспертов.
Ещё раз подчеркну — нужно назначать экспертизу, когда она реально нужна, а не потому, что у нас дело об экстремизме, терроризме, и автоматически назначается экспертиза.
А когда нужна экспертиза? Это зависит от конкретного дела.
Лингвист в слове «джихад» может увидеть призыв к насильственному экстремизму, а религиовед может обосновать, так ли это, в контексте материала», — говорит Индира Асланова.
Напоследок она привела пример, когда в одной религиоведческой экспертизе было дано следующее заключение: «Халифат» — это слово, которое использует «одна» запрещенная экстремистская организация».
«Делать такие обобщения — фундаментальная ошибка», – отметила специалист.