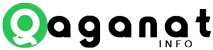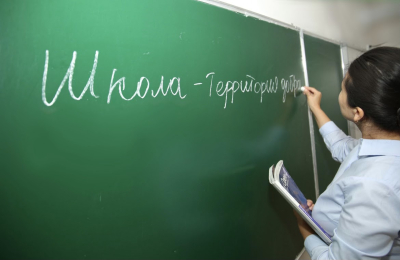В Казахстане борьба с коррупцией пока ещё все больше напоминает ремонт крыши во время ливня: шумно, показательно, с размахом. Но все равно протекает, особенно в тех местах, где живут те, кто крышу и построил.
Как написали бы в интригующем своим сюжетом романе, "события развивались стремительно". 17 июня этого года появилась информация, что в открытый доступ утекли 16,3 миллиона записей с персональными данными жителей Казахстана. На следующий день министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан МАДИЕВ заявил, что утекшие данные — старые, "исторические", относятся к маю 2024 года и нынешние государственные базы взломаны не были.
Однако более чем за неделю до этого скандала, 9 июня, киберполиция совместно с КНБ задержала свыше 140 человек — администраторов Telegram-каналов и представителей компаний по сбору долгов. Было изъято около 400 компьютеров и прочей техники. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. По данным ведомства, задержанные получали сведения из... государственных баз.
Далее. 1 июля задержали руководителя Центра развития трудовых ресурсов (ЦРТР) и экс-замминистра труда и соцзащиты населения Акмайди САРБAСОВА. Силовики пришли с вопросами и к Даулету АРГЫНДЫКОВУ из того же центра и тоже бывшему замминистра соцразвития. А 3 июля подтвердилась информация о задержании гендиректора Первого кредитного бюро (ПКБ) Руслана ОМАРОВА.
"Установлено, что руководство ТОО "Первое кредитное бюро" на системной основе передавало незаконные вознаграждения в адрес руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов" за лоббирование интересов при оказании информационных услуг, необходимых для обработки запросов финансовых организаций", — сообщило Агентство по финмониторингу.
По версии следствия, сотрудники ЦРТР предоставляли ПКБ приоритетный доступ к персональным данным (пенсионные, соцвыплаты) через VPN-связь, что дало коммерческое преимущество. Омаров задержан "на месте передачи денег" — расследование пока продолжается.
Подобная и не менее интересная история развернулась вокруг смены руководства "СК-Фармация".
Ерхат ИСКАЛИЕВ покинул кресло председателя правления этой организации в июне 2024 года после выявления коррупционных рисков в закупках медпрепаратов — по согласованию сторон. Еркен ЖАКАТАЙ был назначен на его место 29 июля и продержался около года. 3 июля 2025 года на фоне новых проверок его сменили на Нурлыбека АСЫЛБЕКОВА, бывшего главу здравоохранения Шымкента.
По актуальным данным, нарушений в "СК-Фармация" выявлено на 741 млн тенге. В компании заявляют о "готовности к взаимодействию" и призвали дождаться завершения аудита.
Все это совпадает с вот какой неожиданной реформой: 1 июля Агентство по противодействию коррупции включено в структуру КНБ. Усиление силовых рычагов идёт в унисон с кейсами по утечкам и фармации — по всей видимости, это сигнал, что реформаторы хотят жестче брать под контроль стратегические сферы.
***
Массовая утечка персональных данных — это не айтишный конфуз и не результат неудачного контракта с подрядчиком. Это системный сбой, выросший из институциональной привычки обращаться с данными как с товаром. Раз за разом госорганы, в том числе упомянутый ЦРТР, передавали приватные данные третьим лицам, иногда просто в обмен на "благодарность".
Теперь Омаров и Сарбасов сидят под следствием, а МВД демонстрирует видео с изъятием чемоданов и жестких дисков. Выглядит устрашающе. Но системные проблемы, увы, не решаются методами шоу.
Параллельно происходит ещё более интересный процесс — реформирование антикора, который теперь будет работать под зонтиком секретной спецслужбы. Означает ли это, что гражданский контроль за борьбой с коррупцией становится невозможным в принципе? Ведь теперь, получается, коррупцию будут вычислять те, кто сам никому, кроме главы государства, не подотчетен.
И тут вишенка на торте: в "СК-Фармация" сменили руководство. По сути, перестановки в этой компании и крупные финансовые нарушения тянут её под более жесткий госконтроль, а учитывая реформу антикора, это выглядит как консолидация вертикали борьбы с коррупцией под эгидой КНБ.
Массовые задержания в сфере утечек и в ПКБ — показатель, что власти реагируют жестко, используя опять же КНБ и прокуратуру.
Масштабная утечка — не просто провал защиты IT-инфраструктуры. Это результат глубокой институциональной эрозии, когда доступ к персональным данным воспринимается как рыночный актив, показатель того, что разграничение данных и полномочий между государством и бизнесом не работает. И одновременно — лакмусовая бумажка слабости правового государства, где такие схемы вообще стали возможны.
То есть вопрос не в одном ПКБ, а в тотальном размывании границ дозволенного внутри госсистемы.
Внешне создается впечатление, что Казахстан демонстрирует решимость бороться с коррупцией. Но последовательности и системности пока не хватает. Слишком многое похоже на аварийное ручное управление: всплыло — отреагировали, пошел шум — сменили руководство.
***
- Пока нельзя сказать, что это борьба против "старого" Казахстана, — считает политолог Газиз АБИШЕВ. — Потому что вот такие вспышки арестов-задержаний периодически по синусоиде происходят в нашем обществе. Такое было с задержанием бывшего министра здравоохранения Жаксылыка ДОСКАЛИЕВА, с арестом экс-председателя правления нацкомпании "Астана ЭКСПО-2017" Талгата ЕРМЕГИЯЕВА… Да и вообще очень много подобных случаев за 15-20 лет существования антикора. Происходящее определяется на системе координат, где важны такие показатели, как сигналы от власти. А это колебание между "дайте срочные результаты" и "не мешайте экономике работать". Поэтому сначала чуть-чуть отпускают вожжи антикоррупционерам, потом чуть-чуть подзатягивают.
Играют свою роль, считает политолог, и мониторинги социальных настроений, когда нужно найти какую-то жертву. А иногда, когда этого делать вроде бы и не надо, всё-таки возбуждается элита — как теперь по поводу слива личных данных. Элите нужны быстрые результаты.
- Ну и понятно, что есть определенные настроения среди самих силовиков, когда приходят одни люди более рьяные, другие менее рьяные — а в итоге суммой всех комбинаций и факторов определяются циклы усиления и ослабления борьбы с коррупцией, — продолжает Абишев. — Тем не менее эта борьба, в её публичном восприятии, никогда не останавливается. Постоянно ведётся системная работа по борьбе с коррупцией, но, правда, временами она сталкивается с каким-то рядом барьеров, когда из-за бюрократических, экономических и организационных препон борцы с коррупцией не могут проявить себя во всю мощь. Или когда, как особенно это было заметно в предыдущие десятилетия, у "разработанных" объектов есть пока ещё плотная политическая крыша.
Впрочем, по мнению политолога, сейчас борьба с коррупцией обозначается как действительно важный приоритет, но едва ли это открытая борьба между Старым и Новым Казахстаном. Просто потому, что сам процесс разделения этих понятий на самом деле не завершен.
Безусловно, в верхах есть люди, однозначно определившиеся со своей стороной. Но в большинстве своём мы имеем функционеров, которые пытаются сохранить контакты с обеими сторонами. Так что пока здесь острой борьбы быть не может. Да и, в конце концов, актуально ли сейчас говорить о какой-то борьбе в высших эшелонах власти? Кто вообще может быть противопоставлен мощной силовой вертикали, подконтрольной действующему главе государства?
- Произошедшее слияние — то, что антикоррупционную службу влили в Комитет нацбезопасности, — это реорганизация, которая призвана каким-то образом, может быть, снизить ведомственную конкуренцию и тем самым подчинить ситуацию единому политическому руководству, — размышляет политолог. — Может быть, систему хотят как-то оптимизировать, а может быть, снизить риски для антикоррупционной службы. Не думаю, что происходящее — результат какой-то острой политической борьбы, скорее это определенные оргвыводы, которые сделаны по результатам анализа работы.
***
Как бы то ни было, передача функций антикора в КНБ — поворотный момент. Казалось бы, усиление силовых механизмов должно повысить эффективность борьбы с коррупцией. Но есть нюанс.
Очень похоже, что Казахстан вступает в этап централизованной антикоррупционной политики без общественных механизмов обратной связи. Это приумножает мощь силовиков, но ослабляет так называемый горизонт институционального доверия.
Например, после январских событий 2022 года антикор и КНБ резко активизировались — начались аресты высокопоставленных лиц, включая экс-главу самой "спецконторы" Карима МАСИМОВА. Однако до сих пор неизвестны все, до мельчайших подробностей, детали дела (как, к слову, и в событиях декабря 1986 года).
Или вспомним дело о многомиллиардных хищениях при строительстве "Абу-Даби Плаза" и Expo Village, начатое в 2020-х, — оно ведь так и не получило ясной развязки. Несмотря на громкие заявления, расследование растворилось в тумане каких-то протокольных мероприятий...
Что мы имеем на выходе? Антикоррупция в Казахстане превращается в чёрный ящик. Аресты есть, уголовные дела возбуждаются, бюджеты трясут — но доверия пока, увы, не прибавляется. Потому что настоящая борьба с коррупцией — это не когда берут и попадаются, а когда боятся брать. Боятся же тогда, когда система прозрачна и подконтрольна обществу, а не в том случае, если борьба идёт под ковром.
Так что у нас тут появилась заявка на главный вопрос 2025 года: не кто следующий на обыски, а кто будет проверять тех, кто проверяет всех остальных?
Владислав ШПАКОВ, Астана